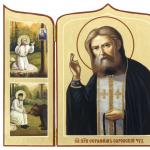Время и пространство в литературном произведении. Николаев А
3. Изучение художественного пространства литературного
произведения.
Пространственно-временнная характеристика представляет собой существенную сторону изучения литературного произведения. Традиционная постановка вопроса основана на признании подражательности художественного творчества, отражения в произведении внешней по отношению к нему реальности. Так в "Словаре литературоведческих терминов" дается следующее определение: "Время в литературе - категория поэтики художественного произведения. Время - одна из форм (наряду с пространством) бытия и мышления; изображается словом в процессе изображения характеров, ситуаций жизненного пути героя, речи и пр. [Словарь лит.-вед.терминов, с.51]. Характерно, что в процитированном справочном пособии, как и в "Философском энциклопедическом словаре", отсутствуют статьи, специально посвященные категории пространства.
М.М. Бахтин в духе неокантианства обосновывал необходимость изучения единства пространственно-временных отношений в литературном произведении: "Существенную взаимосвязь временных и пространственных отношений, художественно освоенных в литературе, мы будем называть хронотопом (что значит в дословном переводе - "время-пространство") [Бахтин 1975, с.234].
Художественное пространство понимается в критике преимущественно как физическое, т.е. как место, где происходят сюжетные события. Д.С. Лихачев утверждает: "В своем произведении писатель создает определенное пространство, в котором происходит действие" [Лихачев 1988, с.195]. Ср. у Бахтина: "время как четвертое измерение пространства" [Бахтин 1975, с.235]. Проблема художественного пространства вызывает возрастающий интерес в литературной критике последнего времени. Такая актуализация связана с новейшими литературоведческими, культурологическими и философскими концепциями.
О. Шпенглер решительно возражает против попытки рассматривать пространство и время как две "морфологически однообразные величины". Мы убиваем живущее, когда заключаем его в пространство, лишенное жизни и делающее безжизненным" [Шпенглер 1993, с.189]. Время для Шпенглера - судьба и жизнь, а пространственные качества - мыслимая абстракция. Истинное, "органическое" время утрачено человеком науки. В результате такого понимания Шпенглер констатирует "падение Запада". Эсхатологическая интенция Шпенглера обусловливает элиминирующее по отношению к "научной" пространственности решение проблемы человеческого существования: вечная загадка времени является для него средоточием проблемы утраченной человечности.
Шпенглер утверждает, что "можно легко научно столковаться о пространстве", а "рассмотрение в подобном же стиле времени совершенно неосуществимо" [Там же, с.191]. Однако и с пространством дело обстоит не так просто. В "обители Матерей" "Фауста" "вечность идей" представляется само собой разумеющимся "всегда", и наоборот: "пустота", "нигде" повергают Фауста в благоговейный испуг и недоумение - "один сквозной беспочвенный простор" [Гёте 1976, с.235]. Это место из Гете упоминается в размышлениях М. Хайдеггера, который рассматривает пространственность, отвлекаясь от физико-технического смысла понятия. Об этом последнем Хайдеггер пишет: "Неужели в сравнении с ним все иначе устроенные пространства, художественное пространство, пространство повседневного поведения и общения - это лишь субъективно обусловленные и видоизмененные формы единого объективного космического пространства" [Хайдеггер 1993, с.313]. С другой стороны, в своей поздней работе Хайдеггер отмечает, что попытка "возводить пространственность человеческого присутствия к временности не может быть удержана" [Там же, с.405]. Хайдеггер предлагает иной, чем у Шпенглера, поворот проблемы, полагает необходимой и возможной дифференциацию пространственности, в частности, специально останавливается на художественном пространстве.
В. Подорога пишет о "топологическом языке", обозначая этим понятием "наличие некоторой реальности, обладающей своей имманентной логикой, которая несводима к языку... Моя вера в наличие этой до- или за- языковой реальности опирается на многократно себя проявляющий в русской литературной традиции фантазм пространства: все ее идеи, мечты, все упования на высшее и лучшее так или иначе связываются с производством особых пространственных образов, которые, со своей стороны, ставят под сомнение веру в язык". Речь идет не о выражении, живописании некоторой пространственной данности, а о созидании особой пространственности художества. "Действительно, вся наша великая литература топологична... это литература особых пространств" [Подорога 1993, с.152]. В. Подорога имеет в виду первичность некоего пространственного видения, которое артикулируется в языке (точнее: в борьбе с языком, не вмещающим видения, не позволяющим его адекватно выразить), и таким образом явлен особый мир художества, отличный от мира-реальности. "Литературная интерпретация языка идет из пространственных, топологических образов, уже как бы данных, видимых, ощущаемых, которые словно "под рукой"; и нужно только найти для каждого из них свой особый язык, найти во что бы то ни стало, даже если ради этого придется изобрести новый язык или изуродовать старый" [Там же, с.153]. Можно подумать, что, рассматривая русскую литературную традицию, Подорога отправляется от позиции Шпенглера, изменяя при этом отрицательную оценку "фантома" пространственности в науке на положительную постановку проблемы "фантазма пространства" в художественном творчестве.
Об особой пространственности художества писал В. Набоков: "В литературном стиле есть своя кривизна, как и в пространстве, но немногим из русских читателей хочется нырнуть стремглав в гоголевский магический хаос". Отзывчивый читатель "найдет в "Шинели" тени, сцепляющие нашу форму бытия с другими формами и состояниями, которые мы смутно ощущаем в редкие минуты сверхсознательного восприятия" [Набоков 1993, с.341]. Но и Подорога обозначивает рассматриваемую им традицию "от Гоголя через Достоевского к Белому и Платонову [Подорога 1993, с.151], правда отправляясь от предъязыкового пространства возможности художества. Приведенные цитаты, несомненно, свидетельствуют об одном и том же понимании проблемы пространственности в искусстве писателем и философом: "топологическая тоска" (Подорога) первична, художественное произведение возникает посредством "литературной интерпретации языка"; для того, чтобы по достоинству оценить, например, "Шинель", "надо произвести нечто вроде умственного сальто, отвергнуть привычную шкалу литературных ценностей (курсив мой - С.З.) и последовать за автором по пути его сверхчеловеческого воображения" [Набоков 1993, с.341]. Можно представить "сверхчеловеческое воображение" как внутренний "пространственный, топологический образ", смещаемый творческим сознанием в сферу языка, изменяемого этим смещением. Пространственное видение нет возможности как-либо понимать помимо языковой выраженности: таинство художественного воображения приводится к языку художественной литературы посредством интеллектуального переживания традиции поэтом, что соответствующим образом меняет "шкалу литературных ценностей" [ ср.: Элиот 1987, с.170,171]. Понятие художественного пространства у Подороги и Набокова связано с художническим видением и воображением автора, нашедшим воплощение, т.е. с авторским присутствием в произведении. Такому исследовательскому подходу противоположно рассмотрение, при котором автор устраняется.
Ю. Лотман ставит проблему художественного пространства со структуралистских позиций: "Пространство в художественном произведении моделирует разные связи картины мира: временные, социальные, этические и т.п. <...> категория пространства сложно слита с теми или иными понятиями, существующими в нашей картине мира как раздельные или противоположные". Лотман утверждает, что "в художественной модели мира "пространство" подчас метафорически принимает на себя выражение совсем не пространственных отношений в моделирующей структуре мира". Таким образом, "художественное пространство представляет собой модель мира данного автора, выраженную на языке его пространственных представлений" [Лотман 1988, с.252,253]. Далее Лотман поясняет, что этот язык характеризуют черты всеобщности, он в значительной мере "принадлежит времени, эпохе, общественным и художественным группам". Художнику же принадлежит высказывание на этом языке, состоящем из сопряженных в индивидуальном опыте "пространственных языков жанров и видов искусства", а также включает в себя "модели пространства разной степени абстрактности, создаваемые сознанием различных эпох" [Там же, с.253]. Это означает, что авторское присутствие ограничивается выбором и комбинированием языковых средств, а не является выражением переживаний и воображения творца.
Та же мысль последовательно высказана в новейшей статье М. Маяцкого: "Последний оплот субъекта - инстанция, предположительно находящаяся за текстом, там, в районе, прежде занятом автором, и распоряжающаяся литературными приемами, меняющая стили и тоны" [Маяцкий 1997, с.92]. Есть возможность рассмотреть эту "инстанцию", заместившую автора, с иной точки зрения.
Ж. Деррида утверждает, что "у "текста" больше нет предела, нет ничего "внешнего" ему" [Деррида 1993, с.154]. Однако деконструкция не ограничивается "текстовым пространством" и различает "за пределами языка... материю следов различных текстов в самом широком смысле" [Там же, с.155] - своеобразный референт текста, очень похожий на его периферию. Это и есть "место" субъекта высказывания, мерцание текста, которое поддается описанию. "Топологическая" иррациональность Подороги приобретает у Деррида черты определенности, упорядоченность систематического понимания. Философ по существу переводит решение проблемы художественного пространства в плоскость текста-языка, точнее, его предметом становится система пересекающихся языков-плоскостей , на которые многократно транспонируется смысл единого и единственного художественного пространства.
Описанная исследовательская позиция не усматривает в художественном пространстве разрушения устоявшихся форм в борьбе с наличным литературным языком (Подорога). Автор, с этой точки зрения, не создает индивидуальное художественное пространство, в котором обнаруживает себя, но обозначает средоточие и соотнесенность художественных приемов, передающих интертекстуальный смысл литературы. В результате реализации такой исследовательской установки игнорируется (или: не постигается) человеческое экзистенциальное движение понимания, т.е. духовность, которую Фуко определяет как "опыт", "деятельность", "посредством которых субъект осуществляет в самом себе преобразования, необходимые для постижения истины" [Фуко 1991, с.286]. Художественное произведение, несомненно, является свидетельством о таком опыте и даже формой такого опыта-деятельности - воплощением духовности.
Совершенно иную возможность описания художественного пространства утверждает В.Топоров, который ставит проблему в семиотическом контексте. Он пишет "об особом виде синтетического пространства, представляющем своего рода теоретико-множественное произведение двух "под-пространств" - поэта (творца) и поэтического текста (творения), характеризующемся особенно сложной и "тонкой" структурой, исключительной отзывчивостью к неявному, скрытому, запредельному, сверхреальному, способностью к дальновидению, провидчеству, пророчеству" [Топоров 1993, с.25]. Речь идет не о постулировании "некоего умозрительного, "метафизического" пространства как объекта-конструкта". "Поэтическое" пространство должно быть понято "как нечто целостное и единое с двух, казалось бы, разных точек зрения - самого поэта-творца и текста, в котором он это свое поэтическое творение осуществляет" [Там же, с.26]. В плане структурно-мифологического исследования проблемы "эктропического" пространства В. Топоров соотносит его с ритуальным и мифопоэтическим пространствами. В его формулировках разрабатывается обсуждавшаяся уже нами проблематика телесности художества [см. об этом: Зотов 1996, с.78-81].
Концепция Топорова указывает возможность артикуляции единства творца и творения, возвращает нас к интуициям Набокова и Подороги. Последний имел в виду русскую литературную традицию в ее развитии от Гоголя и Достоевского к Белому и Платонову, но материал для рассмотрения проблемы художественного пространства в русской литературе может быть значительно расширен, специфичность рассуждений поддается универсализации, впрочем, при некотором снижении остроты постановки проблемы В. Подорогой. Без учета особенного представления о художественном пространстве трудно рассматривать литературное произведение как в его связи с художником, так и с культурной традицией. С другой стороны, художество порождает особенную пространственность. Например, художественное пространство поэмы "Медный всадник", в котором возможны Евгений и "Кумир на бронзовом коне", ближайшим образом связано с Петербургом и наводнением, однако осуществляется оно благодаря особенному измерению, открывающему перспективу в историю национальной культуры (и шире - культуры европейской). Указанное измерение, по-видимому, есть не что иное, как свойственное искусству возведение временности человеческого существования к пространственности произведения, или "опространстливанию" времени (термин Деррида). Петербург в "Медном всаднике" в мещает событие истории, и место действия становится художественным пространством. "Вдруг стало видимо далеко во все концы света" (Гоголь) - не "формула" ли это художественного пространства, вместившего и того, кто видит? В художественном пространстве сохраняется, присутствует мистика видения, тайна творца, который явлен и постигается в полноте самобытной художественной речи.
Независимо от методологической позиции в новой постановке проблемы пространственности следует сидеть выражение постсовременной интенции мыслить мир, когда время "утрачено"; мир и человек как культура, понимаемая в известных формах рациональности, уже случились окончательно, история завершена. Кажется, человек, преодолевая безысходность мысли о времени, способен обрести пространство культуры - иное времени - и вопрошает о нем как об утраченном смысле существования. Нефизически понятое "органическое" пространство культуры, в котором только и возможен человек, нарастало, открываемое временем истории, и важнейшей областью этого события пространства является искусство.
Литературно-художественное произведение с этой точки зрения не является лишь воссозданием каких-либо помимо него сложившихся пространственных отношений - как бы ни понимать такое воссоздание и такие отношения, - но есть созидание в языке художественного пространства как новой эстетической реальности, в которой сказывается вне- и до- художественное видение, сопряженное с временностью. Можно представить, что художническое видение, отправляясь от некоторой реальности, эмпирического пространства, осуществляется как созерцание. По Шопенгауэру, это созерцание вневременной сущности (платоновской идеи), приводимое затем художником к действительности сочетанием с пространственными характеристиками наличного при стремлении удержать вневременное качество открывшегося. С таким созерцанием связано пространство художества - условие возможности и возникновения художественного пространства. Эмпирическое с этой точки зрения представляет собой лишь необходимую форму. "Фантазм пространства" является не чем иным, как созданием новой эстетически-чувственной реальности и пересозданием мира. (Ср. у Новалиса: "Поэт пользуется вещами и словами как клавишами, и вся поэзия покоится на действительной сопряженности идей, на самодейственном, умышленном, идеальном созидании случая" - Новалис 1995, с.155].)
Следует различать пространство художества - как открытость со-творения мира в искусстве, действительность художнического видения (сфера творца), и художественное пространство - как конкретную данность, замкнутость, действительность образа (сфера творения). Указанные стороны в их единстве предстают как область эстетически-художественного самоопределения человека. Движение человека в физическом пространстве есть созидание пространства повседневного поведения и общения (Хайдеггер), нравственно-интеллектуального самоопределения человека. Искусство расширяет возможности такого самоопределения, художественное пространство может быть осмыслено как реализация свободы человека, как средство превозмочь локальность, вырваться из тенет времени, как воспарение, устремленность к исторически невозможному чаемому совершенству - вечности. В художественном пространстве человек навсегда возможен, несмотря на гибель героя произведения; в расширяющемся пространстве художества вечно жив художник - творец мира человека.
Изучение творчества писателя в целом или отдельного произведения в качестве художественного пространства должно учитывать несколько условий. Во-первых, исследователь связан с традицией изучения творчества того или иного писателя или произведения и испытывает влияние соответствующего интертекста. Конкретная исследовательская позиция сознает себя интертекстуальной, выявляет и осмысливает эту интертекстуальность и, наконец, обретает свою сущность, если в результате обсуждения оказывается, что в этой позиции на фоне традиции заметен особый смысл и что она не является иллюзией самолюбивого автора. В последнем случае мы будем иметь дело с тавтологией. Во-вторых, исследование единосущности творца и творения как самодостаточного художественного пространства предполагает последовательность аналитического развертывания мысли от поэтической предметности к качествам творца. В-третьих, понимание литературного явления невозможно вне связи с традицией, где необходимо различать две ее стороны, которые можно условно определить как наследуемую и порожденную, т.е. предшествующее и последующее литературное развитие. Аналитическое рассмотрение поэтики произведения, воплощающей литературную позицию поэта, позволяет осознать самодостаточность художественного пространства. Особенности жанра в этом случае представляют соответствующую традицию в уникальном творческом свершении, являют художника-творца.
Неиерархическая сопряженность интерпретаций, не сводимых одна к другой и методологически не приводимых к общему знаменателю, позволяет постигнуть художественное пространство, которое в этом смысле изоморфно расширяющемуся пространству культуры. В каждую эпоху названные интерпретации формируют пространство самоопределения человека культуры. Определенный момент понимания характеризуется диалогичностью: интерпретатор, чья исследовательская интенция создана традицией изучения литературы и данного произведения, устремлен к развитию традиции в ее определенном культурном аспекте. Речь идет о самопознании и тем самым осуществлении традиции.
Аналитическое рассмотрение произведения не обязательно связано с прямыми литературными сопоставлениями. А.П. Скафтымов справедливо указывал: "Наличность влияния одного произведения на другое, даже в том случае, если оно было бы доказано с полной безусловностью, нисколько не может свидетельствовать в пользу усвоения качеств одного произведения другому" [Скафтымов 1988, с.175]. Для нас в произведениях художника "имеет значение только его личность. То, что восходит к другим, может быть лишь внешней оболочкой... не оно служит нам духовной пищей" [Витгенштейн 1994, с.433]. Наконец, "думая параллелями, пропустишь действительность. Чуждый самой природе литературы, такой тип анализа сокращает вашу способность к видению экзистенциальных вариантов, в конечном счете, компрометирует само время" [Бродский 1999, с.34,35]. Литературные источники "делают" художника, создающего самодостаточное произведение. Оно возникает в самобытном интеллектуальном переживании художником традиции. Например, в лермонтовском "Демоне" следует видеть прежде всего индивидуальное воплощение одной из важнейших проблем европейской литературы, восходящей к фольклорно-мифологическим и религиозно-культурным источникам. Актуализация демонизма у разных европейских поэтов имеет общие черты, характеризующие, в частности, романтическое миропонимание. Однако понимание произведения как личностного творческого свершения (Бахтин), как "самодовлеющей предметности" (Лосев) позволяет в первую очередь поставить вопрос об истолковании его в связи с основополагающей мифологемой (и соответствующей культурно-исторической проблемой) как ее индивидуальное поэтическое воплощение. Художественное пространство "Демона" на этом уровне понимания предстает как целостный и самодостаточный мир.
Такая индивидуализирующая актуализация культурно-исторического смысла в существенной мере связана с литературной традицией, к которой может быть отнесена поэма Лермонтова. Ее пространство понимается как особое измерение пространства традиции, а традиция проявляется в присутствии в ней (точнее: в возможности присутствия!) самой поэмы "Демон". Завершающим моментом понимания художественного пространства произведения должно стать установление его места в контексте последующего развития рассматриваемой традиции.
Предлагаемый способ решения исследовательской задачи отражает непосредственное освоение произведения. Его источником является "живое художественное волнение" (Скафтымов), в котором и осуществляется традиция. (Ср. со словами Э. Паунда о "прямом знании": "это прямое знание, оно без усилия сохраняется как некий осадок, как часть моей целой природы..." - [Паунд 1997, с.110].) Разумеется, в "живом художественном волнении" традиция явлена целиком, в ее прошлом, настоящем и будущем относительно произведения времени, т.е. в творческом восприятии читатель непосредственно обретает пространство культуры. Рассуждения, предложенные выше, - это попытка упорядочивающего сознания по-новому описать целостность, непрерывность этого пространства.
Различение уровней исследования не связано с иерархичностью. Оно предполагает последовательное расширение пространства интерпретации, причем каждый этап исследования самодостаточен, и из него логически вытекают другие, столь же существенные, а те, в свою очередь, обусловливают существование предшествующего этапа как необходимой стороны понимания. Методологически неизбежная аналитичность постижения художественного произведения снимается представлением о художественном пространстве, об одновременности порождаемых культурой неуничтожимых смыслов.
Обретение таким образом понятого пространства художественного творчества связано в первую очередь с интерпретатором. Это пространство его самоопределения и самоосуществления. Филологическое усилие, благодаря которому артикулируется интеллектуальное переживание исследователя, становится одним из путей к обретению пространства культуры, одним из измерений культуры как пространства.
Пространство - одно из основных проявлений реальности, с которым сталкивается человек, как только он начинает осознавать себя и познавать окружающий мир. При этом оно воспринимается им как нечто существующее вне, вокруг человека-наблюдателя, зрителя, находящегося в центре пространства. Оно заполнено вещами, людьми, оно предметно и антропоцентрично.
Важнейшие характеристики пространства , отмечаемые обычно исследователями данной категории:
1. Антропоцентричность - связь с мыслящим субъектом, воспринимающим окружающую среду и осознающим пространство, и с его точкой зрения.
2. Отчуждаемость от человека, осмысление его как вместилища, вне которого находится человек.
3. Круговая форма организации пространства, в центре которого находится человек.
4. Предметность - заполненность пространства вещами, предметами (в широком смысле слова).
5. Непрерывность и протяженность пространства, наличие разной степени удаленности: близкое и далекое пространство.
6. Ограниченность пространства: закрытое - открытое.
8. Трехмерность: верх - низ, спереди - сзади, слева - справа.
9. Включенность пространства во временное движение.
Дуализм восприятия пространства проявляется в традиции передавать его явственные свойства в виде оппозиций, словесных пар с противоположным значением, которые могут к тому же иметь устойчивые оценочные (положительные или отрицательные) коннотации: верх - низ, высокое - низкое, небо-земля, правый - левый, далеко - близко, восток - запад и т.д.
В художественном тексте, с одной стороны, находят отражение все существенные свойства пространства как объективной бытийной категории, ибо в тексте отражается реальный мир. С другой стороны, репрезентация пространства в каждом отдельном художественном тексте уникальна, так как в нем воссоздаются творческим мышлением, фантазией автора воображаемые миры. Можно утверждать, что в художественном тексте воплощается объективно-субъективное представление автора о пространстве.
Таким образом, литературно-художественный образ пространства имеет психолого-концептуальные основания. Как убедительно показал Ю. М. Лотман, художественное пространство - это индивидуальная модель мира определенного автора, выражение его пространственных представлений. Это континуум, в котором размещаются персонажи и совершается действие. Оно, по его мнению, имеет не физическую природу, так как оно не пассивное вместилище героев и сюжетных эпизодов, не пустотелый сосуд. Для характеристики литературно-художественного пространства имеет значение характер и параметры объектов, заполняющих пространство вокруг субъекта: оно может быть замкнутым, ограниченным телом субъекта (микрокосм) или ближайшими границами (дом, комната и т. п.), а может быть открытым, протяженным, панорамным (макрокосм). Оно может быть также сжатым, суженным и расширенным, увеличенным.
Учитывая, во-первых, степень и характер объектной наполненности литературно-художественного пространства; во-вторых, явно (неявно) выраженный характер взаимодействия субъекта и окружающего пространства; в-третьих, фокус, точку зрения наблюдателя, в том числе автора и персонажа, предлагаем различать следующие типы литературно-художественного пространства:
1. Психологическое (замкнутое в субъекте) пространство; при воссоздании его наблюдается погруженность во внутренний мир субъекта, точка зренияпри этом может быть как жесткой, зафиксированной, статичной, так и подвижной, передающей динамику внутреннего мира субъекта. Локализаторами при этом обычно выступают номинации органов чувств: сердце, душа, и т. п. - см., например, стихотворение А. Н. Апухтина «Твоя слеза»:
Твоя слеза катилась за слезой,
Твоя душа сжималась молодая,
Внимая речи лживой и чужой...
И я в тот миг не мог упасть, рыдая,
Перед тобой!
Твоя слеза проникла в сердце мне,
И все, что было горького, больного
Запрятано в сердечной глубине, -
Под этою слезою всплыло снова,
Как в страшном сне!
Не в первый раз сбирается гроза,
И страха перед ней душа не знала!
Теперь дрожу я... Робкие глаза
Глядят куда-то вдаль... куда упала
Твоя слеза!
2. Близкое к реальному географическое пространство , в том числе это может быть конкретное место, обжитая среда: городская, деревенская, природная. Точка зрения может быть как жесткой, закрепленной, так и движущейся. Это плоскостное линеарное пространство, которое может быть направленным и ненаправленным, горизонтально ограниченным и открытым, близким и далеким, как, например, в стихотворении С. Есенина «Гой ты, Русь, моя родная...»:
Гой ты, Русь, моя родная,
Хаты - в ризах образа...
Не видать конца и края –
Только синь сосет глаза.
Как захожий богомолец,
Я смотрю твои поля.
А у низеньких околиц
Звонко чахнут тополя.
Пахнет яблоком и медом
По церквам твой кроткий Спас.
И гудит за корогодом
На лугах веселый пляс.
Побегу по мятой стежке
На приволь зеленых лех,
Мне навстречу, как сережки,
Прозвенит девичий смех.
Если крикнет рать святая:
«Кинь ты Русь, живи в раю!»
Я скажу: «Не надо рая,
Дайте родину мою».
В данном тексте воссоздается образ близкого и родного лирическому субъекту пространства родной страны - пространства открытого, безграничного (Не видать конца и края...). Оно наполнено характерными для Руси, с авторской точки зрения, объектами: Хаты - в ризах образа...; По церквам твой кроткий Спас. Цветовая картина пространства родной страны представлена синим и зеленым цветом: ...Только синь сосет глаза; Побегу по. стежке На приволь зеленых лех. Дана и чувственно-обонятельная картина пространства: Пахнет яблоком и медом. Пространство наполнено радостью, весельем: И гудит за корогодом На лугах веселый пляс; Мне навстречу, как сережки, Прозвенит девичий смех. В авторском восприятии географическое пространство родной страны в ценностном отношении уподобляется раю.
3. Точечное, внутренне ограниченное пространство : дом, комната, палата и т. п. Это пространство какого-либо определенного места, имеющее обозримые границы, пространство наблюдаемое. Точка зрения при этом может быть как статичной, так и динамичной. Обратимся к стихотворению И. Иртеньева «Автобус»:
По улице идет автобус,
В нем едет много человек.
У каждого - свои заботы.
Судьба у каждого - своя.
Вот инженер тире строитель.
Он строит для людей дома,
И в каждый дом, что им построен,
Души частицу он вложил.
А рядом с ним в большой зюйдвестке
Отважный едет китобой.
Он кашалотов беспощадно
Разит чугунным гарпуном.
А рядом с ним стоит рабочий.
Его глаза огнем горят.
Он выполнил четыре нормы,
А захотел бы - смог и шесть.
А рядом - женщина рожает,
Еще мгновенье - и родит!
И тут же ей уступят место
Для пассажиров, что с детьми.
А рядом - футболист известный
С богиней Никою в руках.
Под иберийским жарким небом
Ее он в честном взял бою.
А рядом - продавщица пива.
С косою русою до пят.
Она всех пивом напоила,
И вот теперь ей хорошо.
А рядом в маске Дед Мороза
Коварный едет контролер.
Ее надел он специально,
Чтоб всеми узнанным не быть.
Но этой хитрою уловкой
Он не добьется ничего,
Поскольку есть у всех билеты,
Не исключая никого.
В данном стихотворении пространственные координаты задаются заглавным словом - автобус. В первых двух строчках стихотворения задаются параметры пространства: во-первых, очень скупо, намеком обозначается открытое пространство улицы (По улице идет автобус), которое в дальнейшем никак не конкретизируется; во-вторых, актуализируется замкнутое внутреннее пространство автобуса: В нем едет много человек. Фактически все стихотворение и посвящено парадоксальному описанию в лаконичной, комически-лапидарной форме судьбы едущих в автобусе пассажиров (инженер, китобой, рабочий, рожающая женщина, футболист, продавщица пива) и контролера в маске Деда Мороза. В данном стихотворении доминирует статичность изображения персонажей в замкнутом пространстве, однако это вовсе не обязательно - замкнутое пространство может быть вместилищем динамически изображенных событий.
4. Фантастическое пространство наполнено нереальными с научной точки зрения и с точки зрения обыденного сознания существами и событиями. Оно может иметь как горизонтальную, так и вертикальную линеарную организацию, это чужое для человека пространство. Этот тип пространства является жанрообразующим, вследствие чего в отдельный жанр выделяется фантастическая литература. Но данный тип пространства обнаруживается и в литературно-художественных произведениях, которые нельзя однозначно отнести к фантастике, так как многообразие форм проявления фантастического мотивирует и разнообразие его художественного осмысления. В качестве примера рассмотрим небольшое стихотворение в прозе И. С. Тургенева «Черепа» (см. практикум) .
В данном стихотворении создан сложный образ пространства, который с первого взгляда можно квалифицировать как точечное, на что ориентирует первая фраза текста с бытийным значением: Роскошная, пышно освещенная зала; множество кавалеров и дам. Но изображенное далее автором фантастическое событие, а также перемещение в фокус восприятия и показ крупным планом в качестве объектов, наполняющих пространство и существующих как бы вне связи с человеком, его органов тела: скул, черепов, шаров бессмысленных глаз - позволяют рассматривать пространство текста как фантастическое. Доказательством этому является и модальность стихотворения, явно выраженная лексическими средствами в рассуждениях лирического субъекта: С ужасом глядел я..., Я не смел прикоснуться к собственному лицу, не смел взглянуть на себя в зеркало.
5. Космическое пространство , которое характеризуется вертикальной ориентацией, является далеким для человека пространством, наполненным свободными и независимыми от человека телами (Солнце, Луна, звезды и др.). Рассмотрим, например, стихотворение Н. Гумилева:
На далекой звезде Венере
Солнце пламенней и золотистей,
На Венере, ах, на Венере
У деревьев синие листья.
Всюду вольные, звонкие воды,
Реки, гейзеры, водопады
Распевают в полдень песнь свободы,
Ночью пламенеют, как лампады.
На Венере, ах, на Венере
Нету слов обидных или властных,
Говорят ангелы на Венере
Языком из одних только гласных.
Если скажут «Еа» и «аи»-
Это радостное обещанье,
«Уо», «ао» - о древнем рае
Золотое воспоминанье.
На Венере, ах, на Венере
Нету смерти, терпкой и душной.
Если умирают на Венере –
Превращаются в пар воздушный.
И блуждают золотые дымы
В синих, синих вечерних кущах
Иль, как радостные пилигримы,
Навещают еще живущих.
Это стихотворение начинается словосочетанием с пространственным значением На далекой звезде Венере, которое выполняет текстообразующую функцию (в различных вариациях оно повторяется семь раз) и является знаком, позволяющим рассматривать изображенное в тексте пространство как космическое, так как звезды, планеты и другие небесные тела традиционно считаются его атрибутами.
6. Социальное пространство субъекта-деятеля, субъекта-преобразователя. Это свое для человека, освоенное им пространство, в котором в основном протекает его сознательная жизнь, совершаются события, имеющие социально-общественную обусловленность. Модальность изображения подобного пространства может быть различной: от пафосной, оптимистической до сниженной, иронической. Обратимся к стихотворению И. Иртеньева «Песнь о юном кооператоре», в котором явно ощущается ироническая тональность изображенного социального события:
Сраженный пулей рэкетира,
Кооператор юных лет
Лежит у платного сортира
С названьем гордым «туалет».
На перестройки пятом годе,
В разгар цветения ея,
Убит при всем честном народе
Он из бандитского ружья.
Мечтал покрыть Страну Советов,
Душевной полон широты,
Он сетью платных туалетов.
Но не сбылись его мечты.
На землю кровь течет из уха,
Застыла мука на лице,
А где-то дома мать-страруха,
Не говоря уж об отце,
Не говоря уже о детях,
И о жене не говоря...
Он мало жил на этом свете.
Но прожил честно и не зря.
На смену павшему герою
Придут отважные борцы,
И в честь его везде построят
Свои подземные дворцы.
Выделенные типы литературно-художественных пространств не отрицают друг друга и чаще всего в целостном художественном тексте взаимодействуют, взаимопроникают, дополняют друг друга. Приведем в качестве примера подобного совмещения пространств разного типа стихотворение Н. Гумилева «Крыса»:
Вздрагивает огонек лампадки,
В полутемной детской тихо, жутко,
В кружевной и розовой кроватке
Притаилась робкая малютка.
Что там? Будто кашель домового?
Там живет он, маленький и лысый...
Горе! Из-за шкафа платяного
Медленно выходит злая крыса.
В красноватом отблеске лампадки,
Поводя колючими усами,
Смотрит, есть ли девочка в кроватке,
Девочка с огромными глазами.
Мама, мама! - Но у мамы гости,
В кухне хохот няни Василисы,
И горят от радости и злости,
Словно уголечки, глазки крысы.
Страшно ждать, но встать еще страшнее.
Где он, где он, ангел светлокрылый?
Милый ангел, приходи скорее,
Защити от крысы и помилуй!
В этом стихотворении можно усмотреть совмещение трех пространственных моделей: замкнутого точечного (его сигналы - точное указание на место происходящего: полутемная детская, кроватка, платяной шкаф), фантастического (образ домового, маленького и лысого, и образ крысы), психологического, которое воссоздается и прямыми лексическими средствами (В полутемной детской тихо, жутко; Горе!; Страшно ждать, но встать еще страшнее) и косвенными, непрямыми номинациями: образ девочки с огромными глазами, ее изображенная высказанная речь (Мама, мама!; Милый ангел, приходи , Защити от крысы и помилуй!) и невысказанная внутренняя (Где он, где он, ангел светлокрылый?). Доминирующим в данном стихотворении можно считать психологическое пространство.
В художественном тексте топонимы выполняют текстообразующую, моделирующую функцию. Помещая персонаж в определенную среду, называя и именуя место его пребывания, автор, с одной стороны, осуществляет географическую конкретизацию описываемого события, приближая его к действительности, а также определенным образом характеризует персонаж, предопределяя его характер и дальнейшее развитие сюжета. Не случайно поэтому литературных героев различных авторов, а также жанр некоторых произведений определяют по параметрам изображенного в них пространства, например: деревенская проза, сельские жители, городской роман, морской роман, драма гостиной, драматургия кухонной раковины, колониальный роман и т. С другой стороны, зачастую топоним в тексте представляет собой свернутый текст, текст в тексте, обладающий потенциалом культурно-исторических знаний, сознательно пробуждаемых автором и создающих ассоциативный пространственно-временной континуум. Это обусловлено тем, что топонимы напрямую связаны с историей, неотторжимы от нее, являются носителями информации о прошлом, знаками определенных культурно-исторических событий.
Нередко топонимика художественного текста согласуется с антропонимикой, пробуждая ассоциации, связанные с одними и теми же культурно-историческими событиями, персонифицированными в культурной памяти народа, нации, отдельного человека. Такого рода пространственные аллюзии <ассоциации, намеки> - характерная черта идиостиля О. Мандельштама. Например, в его стихотворении «Золотистого меда струя...» (см. практикум) именно благодаря топонимам и антропонимам создаются образы двух эпох - исторической и современной поэту.
В то же время топонимы могут быть нацелены и на будущее или могут быть знаками фантастического, еще не освоенного человеком и незнакомого ему мира. При этом изображенные в художественном тексте воображаемые миры становятся художественной реальностью, например: «Остров Утопия» (Т. Мор), «Город Солнца» (Т. Кампанелла), «Марсианские хроники» (Р. Брэдбери), «Остров Накануне» (У. Эко), «Волшебник Изумрудного Города» (А. Волков). Причем в подобных литературно-художественных произведениях употребляется соответствующая фантастическому пространству окказиональная антропонимика: Ассоль, Тави Тум (А. Грин), Гэндальф (Дж. Толкиен), Гулливер (Дж. Свифт) и др. Таким образом, антропонимы, являясь неотторжимой частью характеристики персонажа, содержат дополнительную информацию о месте его проживания, его происхождении, социальном положении.
Как видим, топонимы выполняют различные текстовые функции, при этом их основная функция вне текста - наименование точки географического пространства - может быть не основной в условиях литературно-художественного целого, когда главным становится пробуждение в сознании читателя исторических, социальных, культурных коннотаций топонимов, аккумулированных ими в процессе их исторического существования.
Топонимия и антропонимия, а также лексика с пространственным значением, характерная для конкретных литературно-художественных произведений, в дальнейшем вбирают в себя содержание всего текста и приобретают символическое значение, становясь знаками тех или иных исторических событий, изображенных в тексте, например: «Дом на набережной» (Ю. Трифонов), «Собор Парижской Богоматери» (В. Гюго), «Петербург» (А. Белый), «Тихий Дон» (М. Шолохов), «Река Потудань» (А. Платонов), «Господин из Сан-Франциско» (И. Бунин). «Тамань» (М- Лермонтов), «Кавказский пленник» (Л. Толстой). Каждое из этих произведений символизирует определенную эпоху, связанную с изображенными в них событиями. Не случайно поэтому говорят о Петербурге Ф. Достоевского, А. Белого, А. Блока; о Москве М. Булгакова, М. Цветаевой.
Итак, художественный образ пространства в литературном произведении субъективно детерминирован, имеет концептуально-психологическое основание, что обусловливает его уникальность и своеобразие. Обобщение близких, похожих по характеру репрезентации пространственных отношений в контексте различных литературно-художественных произведений позволяет говорить об общих закономерностях воплощения пространства в художественном тексте, о его основных типологических разновидностях: психологическом, географическом, точечном, фантастическом, космическом, социальном. При этом выделяются моно- и политопические пространственные структуры, статические и динамические по характеру изображения, имеющие различную пространственную перспективу, обусловленную точкой зрения автора.
Что касается отдельного художественного текста, то создаваемый на его страницах образ пространства всегда уникален и своеобразен.
Этот термин, возникший по аналогии с гамбургерами и чизбургерами, ввел в речевую практику Владимир Березин статьей, которая так и называлась – «Введение в лавбургер» («Литературная газета», 31.01.1995). С тех пор под лавбургерами понимают короткие романы, написанные женщинами (либо под «женскими» псевдонимами) о женщинах и для женщин, причем все содержание этих романов должно исчерпываться любовными историями, изложенными в технике так называемого формульного письма и непременно завершающимися хэппи-эндами. «В пределах лавбургера , – говорит Ольга Славникова, – есть два основных типа конфликта. Первый: чувство не обоюдно. Второй: чувство обоюдно, но некие обстоятельства мешают Ему и Ей соединиться», при этом «по договору автор имеет право заставить героев страдать, но в конце концов обязан дать им счастье, а читателю доставить специфическое удовольствие, которое можно сравнить с действием слабого наркотика ».
Всецело принадлежа сфере массовой культуры и представляя собою одну из разновидностей дамской прозы, этот субжанр появлялся в России еще в начале ХХ века (см., например, романы А. Вербицкой), но в годы Советской власти традиция была насильственно пресечена, и то, чем сегодня пестрят книжные лотки и развалы, пришло к нам непосредственно с Запада. Поэтому и читают либо переводные романы, либо русские, но выстроенные в той же сюжетике и стилистике, что и переводные. Стратегия импортозамещения, которой в этих случаях руководствуются издатели, преподносит иной раз забавные курьезы. Так, если в начале 1990-х годов русские авторы (обоего пола) зачастую выступали под «иностранными» псевдонимами и живописали приключения чужеземных героинь в зарубежном антураже, то теперь переводные романы все чаще перелицовываются на отечественный манер, Мэри заменяют Машами, а Филадельфию – Краснодаром.
Впрочем, перекодировки такого рода остаются, как правило, не замеченными читательницами, так как лавбургер можно назвать, вероятно, самым нормативным из всех существующих ныне жанровых форматов. Изощренный психологический анализ и выход за пределы love story здесь недопустимы, стилистические вольности не поощряются, а формульное письмо, рассчитанное не на новизну, а напротив, на привычность, на эффект узнавания уже знакомого, укрощает фантазию, требуя не столько сочинять, сколько комбинировать тексты из уже готовых смысловых и событийных блоков, эмоциональных клише и речевых штампов. Именно поэтому в лавбургеровой зоне нет и не может быть авторов с опознаваемо яркой художественной индивидуальностью, и брендами становятся не их имена, а издательские серии (такие, как «Шарм», «Русский романс», «Мелодрама», «Любовный роман», «Романы о любви», «Такая разная любовь» и т. п.), легко идентифицируемые даже и неквалифицированными читательницами по стандартно броским обложкам и по названиям книг, которые эти серии составляют (таким, как «Обретенное счастье», «Яд вожделения», «Тайное венчание» у Елены Арсеньевой и «Поцелуй небес», «Семь цветов страсти», «Лики любви», «Уроки любви» у Ольги Арсеньевой).
Все это превращает производство лавбургеров в своего рода отрасль литературной промышленности, где действуют сотни авторов, легко меняющих имена и маски в зависимости от издательского задания, а также нередко объединяющихся для создания методом бригадного подряда так называемых межавторских серий. Которые, учитывая естественные различия в читательских вкусах, подразделяются на «современные» и «костюмные» (т. е. построенные на исторических сюжетах), целомудренные и эротические, авантюрные и бесхитростные, рассказывающие о жизни великосветских особ или о судьбах самых обычных героинь. В любом случае ассоциации с фаст-фудом сохраняются, что повергает в уныние литературных критиков, а социологов литературы побуждает размышлять об «учебной», обучающей функции лавбургеров, ибо они, по мнению социологов литературы, благодаря своей повторяемости и легкой усвояемости способствуют отработке у читательниц стереотипов цивилизованного поведения, напоминая, например, о том, что, как заметил В. Березин, «даже и в мгновениях страсти надо не забывать о презервативах ».
См. ГЕНДЕРНЫЙ ПОДХОД В ЛИТЕРАТУРЕ; ДАМСКАЯ ПРОЗА; МАССОВАЯ ЛИТЕРАТУРА; ФОРМУЛЬНОЕ ПИСЬМО
ЛИБЕРАЛЬНЫЙ ТЕРРОР В ЛИТЕРАТУРЕ, ЛИБЕРАЛЬНАЯ ЖАНДАРМЕРИЯ
Либеральный террор – из тех явлений, которые существуют (или не существуют) в зависимости от точки зрения говорящего о них человека.
Последовательному либералу сама мысль о том, что его (и/или его единомышленников) могут зачислить одновременно и в террористы и в жандармы, разумеется, кажется абсурдной. «Да не было никакой либеральной жандармерии, глупости это все. Ну какой террор может быть со стороны либералов, со стороны журнала “Знамя”? Отрицательная рецензия? » – темпераментно протестует против всего лишь возможности такого предположения Наталья Иванова. А ее оппоненты из нелиберального – и очень пестрого по своему составу – лагеря, напротив, либо дружно жалуются на «либеральный террор » (Никита Михалков), «либеральный большевизм » (Владимир Бондаренко), «либеральное устрашение » (Максим Соколов), либо, как Людмила Сараскина, и вовсе утверждают, что «мы живем в стране, где торжествует либеральный террор» , присовокупляя к сказанному: «Либеральный террор – это то, что погубило Россию XIX века. Это то, что привело к крушению государства и к революции 1917 года ». Решительно того же мнения, что консерваторы, страшащиеся великих потрясений, придерживаются, как это ни парадоксально, и охотники до этих самых потрясений – от поклонников Сталина и Усамы бен Ладена до тех, кому именно либеральный террор мешает легализовать наркотики и детскую проституцию, а также повесить евреев (и/или «лиц кавказской национальности») на всех, какие есть, фонарных столбах.
Это кажется странным – но только на первый взгляд. До тех пор, пока мы не вспомним Вольтера, с одной стороны, давшего классическую формулу либерализма: «Я не разделяю ваши убеждения, но готов жизнь отдать за то, чтобы вы могли их свободно высказывать », – а с другой, потребовавшего: «Раздавите гадину! » – имея в виду католическую церковь. И пока не поймем, что оксюморонное сожительство этих, вроде бы исключающих друга импульсов и составляет самую суть, сокровенную природу общественного мнения. Любого, а отнюдь не только либерального, которое удостоилось отдельной этикетки лишь потому, что, в отличие от мнения, скажем, тоталитарного, оно, – как справедливо заметил Максим Соколов, – действительно «покоится на декларативном отказе от какого бы то ни было подавления и на заверениях в преданности безбрежной свободе » и, опять-таки в отличие от тоталитарного, может умеряться (а может, разумеется, и не умеряться) только оглядкой на собственные декларации.
Так вышло, что в России с ее опытом и многовековыми нормами государственного тоталитаризма общественное мнение всегда – возможно, в порядке социальной компенсации – позиционировалось как либеральное. Поэтому и «клеветническому террору в либеральном вкусе » (так выглядел этот термин под пером его изобретателя Николая Лескова), а иначе говоря, массированному, хотя, разумеется, никем и никак не скоординированному осуждению подвергались по преимуществу «Некуда» и «На ножах» самого Лескова, «Взбаламученное море» Александра Писемского, «Бесы» Федора Достоевского, то есть как раз те книги, содержащаяся в которых защита традиционных ценностей интерпретировалась общественным мнением (отнюдь не всегда правомерно) как злонамеренное покушение на его свободу и как «адвокатство» в пользу самодержавия. Поэтому же и в нашу эпоху с репутационным риском могут быть сопряжены любые произведения и писательские высказывания, истолковываемые как великодержавные, ксенофобские, шовинистические, «красно-коричневые».
Разумеется, реакция общественного мнения соразмерна не только поводу, но и ситуации, в силу чего высказывания примерно одного и того же антилиберального характера могут запускать механизм общественного остракизма (как это было, например, во время вооруженного противостояния президентской власти и оппозиции осенью 1993 года), а могут – в более мирных условиях – расцениваться как всего лишь интеллектуальная провокация, которую трудно одобрить, но в которой допустимо увидеть не более чем проявление идеологического плюрализма. И разумеется же, люди остаются людьми. У них нельзя отнять ни глупости, ни своекорыстия, ни наклонности к мифотворчеству. Поэтому число тех, кто способен из-за любого пустяка поддаваться иллюзиям баррикадного мышления (Анатолий Рыбаков называл их «аэропортовскими идиотами », имея в виду жителей писательских кооперативных домов около метро «Аэропорт»), вполне соответствует числу литераторов, во всем решительно видящих конспирологические заговоры и любую, сколь угодно щадящую критику в свой адрес воспринимающих как развязывание либерального террора. И тогда даже от Евгения Евтушенко можно услышать: «Либеральный террор ничем не лучше средневековой инквизиции », а у Андрея Битова прочесть: «Только настоящий русский писатель знает, каково это, простоять в двух размывающих потоках: либерального террора и патриотизма и остаться самим собой ».
«Однако , – замечает, впрочем, Роман Арбитман, – некоторые мои несчастные коллеги до того трусят прослыть “либеральными жандармами”, что ударяются в противоположную крайность. Они полагают, что лучше найти какую-то несуществующую “энергетику” в текстах потрепанного советского графомана и патологического антисемита, чем быть заподозренным в демократической ангажированности. Те из них, что чуть поумнее, – подличают. Те, что поглупее, – сами себя гипнотизируют ».
См. АПАРТЕИД В ЛИТЕРАТУРЕ; БАРРИКАДНОЕ МЫШЛЕНИЕ В ЛИТЕРАТУРЕ; ВОЙНЫ ЛИТЕРАТУРНЫЕ; ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В ЛИТЕРАТУРЕ; ПОЛИТКОРРЕКТНОСТЬ В ЛИТЕРАТУРЕ; ТУСОВКА ЛИТЕРАТУРНАЯ
ЛИБЕРПАНК
К либерпанку, о рождении которого было объявлено в марте 2005 года, можно отнестись двояко.
С одной стороны, от него легко отмахнуться – очередное, мол, выморочное детище Эдуарда Геворкяна, Дмитрия Володихина и некоторых других писателей-фантастов, которые, засидевшись в своем «жанровом гетто», плодят сущности сверх необходимого, благодаря чему мало обеспеченный художественной практикой турбореализм сменяется импортированным в страну киберпанком, с тем чтобы уступить место столь же худосочной сакральной фантастике, а затем вот и либерпанку.
С другой стороны, в либерпанке можно увидеть и нечто существенное, а именно проявление тех антиамериканских, антиглобалистских и антилиберальных настроений, которые нарастают отнюдь не только в фантастике, но именно в ней манифестированы особенно отчетливо.
Либерпанк становится, таким образом, новейшим модификатом антиутопии, так как авторов, объединяемых новейшим термином, если что и держит вместе, то исключительно попытка представить себе, что произойдет, если либеральные и глобалистские тенденции восторжествуют повсеместно, и – совсем как у Владимира Маяковского – мир действительно станет «без Россий, без Латвий, жить единым человечьим общежитьем » – под неусыпным присмотром то ли США, то ли ООН, то ли еще какой-то могучей силы. Россия при либерпанковских сценариях либо исчезает с географической карты, либо подвергается оккупации. И именно чувство национального унижения яснее прочих передается читателям таких относимых к либерпанку произведений, как «На следующий год в Москве» Вячеслава Рыбакова, «Война за “Асгард”» Кирилла Бенедиктова, «Убить миротворца» Дмитрия Володихина, «Московский лабиринт» Олега Кулагина, а в повестях и рассказах Михаила Харитонова и вовсе осложняется ксенофобией, призывами к историческому реваншу.
«В недрах мегаполиса , – рассуждает Д. Володихин, – время от времени трепыхается невнятный мятежный дух, рождает байки о “флюктуации мирового информационного поля”, которая нам поможет, или о “великом подземном звере”, который когда-нибудь восстанет из оков и разнесет весь нынешний порядок в щепы. Суть же дела состоит в том, что любой побег обречен, любое сопротивление обречено, любой благородный порыв кастрируется мгновенно. В мире либерпанка нет выбора в принципе. Если ты хочешь иного, ты долго не протянешь ».
См. АНТИАМЕРИКАНИЗМ, АНТИГЛОБАЛИЗМ И АНТИЛИБЕРАЛИЗМ; КИБЕРПАНК; ФАНТАСТИКА
ЛИТЕРАТУРА БОЛЬШИХ ИДЕЙ
Это понятие восходит к традиционному для России противопоставлению литературы как служения литературе как своего рода игре, развлечению, искусству для искусства. А сам термин впервые появился, скорее всего, у Евгения Замятина, который, испрашивая в письме к Иосифу Сталину разрешение на эмиграцию, тем не менее надеялся, что вернется – «как только у нас станет возможно служить в литературе большим идеям без прислуживания маленьким людям, как только у нас хоть отчасти изменится взгляд на роль художника слова ».
Такое время для Е. Замятина так и не наступило. Не наступило оно и для Владимира Набокова, в предисловии к американскому изданию романа «Лолита» (1958) темпераментно заявившему: «Для меня рассказ или роман существует, только поскольку он доставляет мне то, что попросту назову эстетическим наслаждением ‹…› Все остальное, это либо журналистская дребедень, либо, так сказать, Литература Больших Идей, которая, впрочем, часто ничем не отличается от дребедени обычной, но зато подается в виде громадных гипсовых кубов, которые со всеми предосторожностями переносятся из века в век, пока не явится смельчак с молотком и хорошенько не трахнет по Бальзаку, Горькому, Томасу Манну ».
Этот пассаж В. Набокова как только не перетолковывали за последнее полустолетие. В том числе и защищая писателя от него самого, ибо, – по словам Людмилы Сараскиной, – «на самом деле у Набокова были большие идеи. “Защита Лужина”, “Отчаяние”, “Приглашение на казнь” и другие – это литература высшей пробы, это литература больших идей ». Тем не менее увести разговор от лобового столкновения двух типов творчества, двух подходов к словесности не удается и вряд ли удастся. Так как оно, похоже, заключено в самой природе эстетического отношения к действительности, что позволяет художнику делать (интуитивный или осознанный) выбор между стремлением воздействовать на несовершенную действительность (пастґи народы, глаголом жечь сердца людей, истину царям с улыбкой говорить…) и стремлением восполнить несовершенство действительности совершенством, гармонией и красотой собственных творений.
Литературу больших идей обычно связывают с просвещенческой моделью культуры, когда в ходу было явно завышенное (с сегодняшней точки зрения) представление о социально-педагогических возможностях искусства. И это справедливо, если, разумеется, не упускать из виду того, что наклонность к дидактике, пафосности и тенденциозности, неизбежно сопутствующая порождению и пропаганде больших идей, прослеживается в литературе с глубокой древности и дает о себе знать и в «Слове о полку Игореве», и в переписке Ивана Грозного с князем Курбским, и в «Житии» протопопа Аввакума. И если, разумеется, помнить, что это противопоставление, ключевое для характеристики литераторов второго и третьего ряда, как правило, «снимается» в творчестве великих писателей, что и разрешает нам «Евгения Онегина», «Мцыри» или «Анну Каренину» с равным основанием относить как к литературе больших идей, так и к искусству для искусства.
Вопрос, таким образом, скорее в акцентах, в том, что для художника (и его аудитории, меняющейся от поколения к поколению) выдвигается на первый план: собственно художественное качество текста или просвещающие (воспитательные, мобилизующие, иные другие) функции этого текста. Здесь многое зависит как от конкретной общественной и литературной ситуации, так и от личной творческой стратегии писателя, стремящегося (либо не стремящегося) стать властителем дум своих современников. Так, понятно, что центральные произведения Виктора Астафьева, Александра Солженицына, Валентина Распутина, Олега Павлова, Эдуарда Лимонова, Дмитрия Галковского, Александра Мелихова всецело принадлежат литературе больших идей, а книги Саши Соколова, Асара Эппеля, Владимира Сорокина, Дмитрия Бакина уместнее трактовать как альтернативные по отношению к этой традиции. «Литература самодовлеющего эстетизма », – как назвал ее Сергей Кузнецов, – постоянно (и небезуспешно) атакует литературу больших идей, и этот, фигурально выражаясь, вечный шах как раз и определяет динамику развития словесного искусства.
См. ВЛАСТИТЕЛЬ ДУМ; ИДЕЙНОСТЬ И ТЕНДЕНЦИОЗНОСТЬ В ЛИТЕРАТУРЕ; ПАФОС, ПАФОСНОСТЬ В ЛИТЕРАТУРЕ
ЛИТЕРАТУРА СУЩЕСТВОВАНИЯ
Термин, предложенный Александром Гольдштейном в одноименной статье-манифесте (израильский журнал «Зеркало». 1996. №?1–2), где утверждается, что «русская литература опять угодила в глубокую яму промежутка, только характер его нынче тотален » и что место «литературы вымысла », потерявшей свою витальность и креативность, если еще и не заняла в 1990-е годы, то обязана занять «литература подлинности или существования, за которой стоит человек со своей личной историей ». Опираясь в теоретическом плане исключительно на высказывания Лидии Гинзбург, хотя, вероятно, уместно было бы вспомнить и теорию «человеческого документа» братьев Гонкуров, и концепцию «сверхлитературы», которую развивал Алесь Адамович на ранней стадии перестройки, А. Гольдштейн настаивает: «Время повальной инфляции требует прямоты слова и жеста, умения все договаривать до конца, не прибегая к исчерпавшим срок своей годности предохранительным оболочкам вымысла ». В качестве образцов-ориентиров критиком названы «мистико-духовидческие » книги К. Кастанеды, «Голый завтрак» У. Берроуза, проза В. Шаламова, Е. Харитонова, Э. Лимонова («речь о былом Эдуарде, а не нынешнем потерто-лоснящемся рептильном партэмиссаре »), отличающиеся повышенной экспрессивностью и бесстрашием в высказывании самых неприятных истин о действительности и о самом авторе. Позже к списку ориентиров А. Гольдштейн добавил гомоэротичную прозу А. Ильянена и публицистическую книгу И. Шамира «Сосна и олива».
Термин тем не менее не прижился, хотя Наталья Иванова и сочла возможным проанализировать под этим углом зрения прозу С. Довлатова, Е. Рейна, А. Наймана, А. Варламова, П. Басинского, В. Отрошенко, других современных авторов, которые, опираясь на технику классического «романа без вранья», пытаются создать «частные мифы » либо о своем поколении, либо о времени – и своей в нем роли.
Не исключено, что успех таких невымышленных, гипер-эмоциональных книг-свидетельств, как «Белым по черному» Рубена Давида Гонсалеса Гальего, вновь актуализирует внимание если и не к этому термину, то, во всяком случае, к понятию, которое он обозначает.
См. NON FICTION ЛИТЕРАТУРА; ПУБЛИЦИСТИКА, ПУБЛИЦИСТИЧНОСТЬ; РАДИКАЛИЗМ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС, ЛИТЕРАТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО
Выражение «литературный процесс» – из тех, про которые обычно думают, что они существовали всегда. И напрасно, ибо классики литературы XVIII–XIX веков такого понятия не только не знали, но в нем в общем-то даже и не нуждались. По самой простой причине: литература виделась им единым и, при всем своем внутреннем многообразии, структурно нерасчлененным целым, где перед всеми писателями стоят одни и те же задачи, действуют универсальные законы и критерии и где есть, разумеется, своя градация, но почти исключительно количественная – по шкале авторской одаренности (гений, талант, посредственность, бездарность) и по шкале художественной состоятельности (шедевры, произведения выдающиеся, заурядные или ничтожные). Владимир Бенедиктов и Нестор Кукольник выглядели в сознании современников прямыми соперниками Александра Пушкина, тогда как книги, предположим, лубочных авторов или творцов русской приапеи воспринимались как лежащие за пределами литературного поля.
Ситуация начала меняться в эпоху первого русского модернизма, когда стало очевидно, что, допустим, Андрей Белый и Иван Бунин в своей творческой деятельности и заняты разным, и разные законы для себя устанавливают, и оценены могут быть только по разным критериям. А сам термин возник еще позднее, на рубеже 1920-1930-х годов, с тем чтобы по-настоящему прижиться, войти в повседневный обиход только в 1960-е годы. И с тем, добавим, чтобы начиная с 1990-х постепенно уходить в тень, в пассивный словарный запас сегодняшних критиков, употребляясь все реже и неся все меньше эвристического смысла.
Вполне понятно, что предложенная схема не учитывает множества важных оттенков и исключений из общего правила. Но думается, что она тем не менее передает главное: литературный процесс – это конкретно-историческое понятие, охватывающее несколько десятилетий советской, по преимуществу, эпохи и используемое для того, чтобы (осознанно или по привычке) вызывать ощущение единства (или видимости единства) литературы, которая на самом деле уже расслоилась на не сообщающиеся между собою потоки. Причем магия единства, и в том числе единства критериев, была одинаково важна и для идеологических надсмотрщиков, и для писателей (а также читателей), сориентированных на классический канон и оттого пытавшихся увидеть сопряжения и взаимовоздействия, творческий «диалог» даже там, где их не только не было, но уже и быть не могло. Вся разница лишь в том, что власть и ее литературные агенты, тяготевшие к порядку и субординации, опирались на метафору «столбовой дороги» и сопутных ей «обочин» или «боковых тропок», а эксперты, самим себе казавшиеся интеллектуально независимыми, предпочитали толковать про диалектическое «единство в многообразии», которое будто бы обеспечивалось конфликтной перекличкой самых различных (и прежде всего стилевых) тенденций. Но и тут, впрочем, предполагалось, что и цели у ни в чем не сходных писателей (литератур) одни, и маршрут следования тоже на всех один.
Что же касается критики, без которой литературный процесс, как известно, не живет, то она воспринималась чем-то вроде нынешней ГИБДД, обязанной, размечая маршрут, способствовать успеху плодотворных, перспективных тенденций и, напротив, всяко затруднять развитие тенденций неплодотворных, ошибочных, тупиковых или попросту вредных. Разумеется, у критиков «Нового мира» времен Александра Твардовского, «Октября» времен Всеволода Кочетова и «Молодой гвардии» времен Анатолия Никонова представления о том, какие тенденции в искусстве плодотворны, а какие ошибочны или опасны, существенно различались. Что влекло к полемике, к литературным войнам как самой «продвинутой» форме самоорганизации литературного процесса, и что почти неизбежно оставляло за его рамками другую литературу , книги, которые никак не соотносились с общим маршрутом и которые никак нельзя было использовать в качестве аргументов в этих литературных войнах. Причем примером таких книг могут служить не только те, что писались в стол и были известны лишь узкому кругу посвященных (скажем, проза Сигизмунда Кржижановского и Павла Улитина, стихи поэтов филологической или лианозовской школ), но и те, что поступили в обращение, но остались незамеченными в горячке боя и потому практически не были задействованны в литературном процессе (как, скажем, поздняя проза Михаила Пришвина). И, учтем это важное добавление, как всякого рода советский масскульт, не вмещавшийся в поле единого литературного процесса подобно тому, как в XVIII–XIX веках в него не вмещались приапеи и лубочные повествования.
С течением времени, то есть на пути от 1960-х к 1980-м годам, объем другой – по отношению к литературному процессу – поэзии и прозы становился все больше, представление о принципиальном равноправии разноориентированных творческих стратегий завладевало умами, и нет ничего удивительного в том, что, пройдя исторически короткий период взаимоистребительной гражданской войны, литературный процесс уже в 1990-е годы как бы растворился в беспредельном литературном пространстве. Диалогичность и – шире – контактность, связывавшие литературный процесс в единое целое, сменились бесконтактным сосуществованием разных писателей и разных типов словесности, когда литераторы-либералы в упор не видят писателей-патриотов, а происходящее в массовой или актуальной литературе почти никакого касательства не имеет к тому, чем озабочены авторы качественной, толстожурнальной прозы. Критики, может быть и незаметно для себя, специализировались, превратившись из регулировщиков литературного движения в экспертов, каждый из которых имеет дело только с одним или, в лучшем случае, с несколькими сегментами литературного пространства. Что же касается общества («Главное лицо литературного процесса , – справедливо заметил Владимир Новиков, – это читатель, а не писатель »), то в обществе нет нынче даже намека на конвенциальное единство мнений по вопросу о том, что является и что не является литературой.
Ни читателей, ни писателей ничто больше друг с другом не связывает, кроме разве что языка, и это, думается, позволяет нам отправить в архив понятие «литературный процесс» навсегда (либо надолго), заменив его понятием «литературное пространство». Или, если угодно, «мультилитература».
См. АКТУАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА; АПАРТЕИД В ЛИТЕРАТУРЕ; ВОЙНЫ ЛИТЕРАТУРНЫЕ; ДРУГАЯ ЛИТЕРАТУРА; КАЧЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА; КОНВЕЦИАЛЬНОСТЬ В ЛИТЕРАТУРЕ; КОНСЕРВАТИЗМ В ЛИТЕРАТУРЕ; МАССОВАЯ ЛИТЕРАТУРА; МУЛЬТИЛИТЕРАТУРА
ЛИТЕРАТУРОЦЕНТРИЗМ
Сначала аксиома: до совсем недавнего времени русская культура и русское общественное сознание были литературоцентричны, то есть в основе основ у нас действительно лежало слово, и литература действительно воспринималась как «царица» всех искусств и едва ли не наивысшее проявление национального гения.
Затем контраксиома: русская культура теряет (или уже потеряла) свою литературоцентричность.
И наконец, вопрос: почему это произошло или, говоря очень по-русски, кто виноват?
На этот вопрос отвечают по-разному. Одни полагают, что литературоцентризм – явление исторически конкретное, а потому и преходящее. «В Европе , – размышляет Михаил Берг, – литература в качестве “ценности высшего разряда” ‹…› утвердилась к середине 19-го века, а исчезновение литературоцентристских тенденций в европейской и американской культуре датируется 1950–1960 годами. В России, в том числе благодаря ее вынужденному существованию вне мирового контекста, тенденции литературоцентризма оказались законсервированными еще на несколько десятилетий ». Тем самым утрата литературоцентричности есть если и не благо для культуры, задержавшейся в своем развитии, то событие абсолютно закономерное и естественное. И более того: на рубеже нового тысячелетия, – замечает Юрий Борев, – «построение эстетических концепций на основе только литературного опыта без серьезного учета опыта других искусств » тормозит дальнейшее развитие культуры, поэтому «необходимо преодоление литературоцентризма при сохранении приоритета вербальных искусств ».
Другие полагают, что маятник истории еще качнется в сторону словесности, и, – как пишет Ольга Славникова, – «споры о конце литературы, вероятно, постигнет та же судьба, что дебаты физиков и лириков: они превратятся в милый исторический курьез ». Тем более, что, – по мнению Дмитрия Бавильского, – «литературоцентричность не умерла, просто она затаилась на время. Точнее, перегруппировалась. Пробилась сквозь медиальный асфальт там, где ее не ждали. Например, в сериалах. По сути, нынешний бум сериалов на российском телевидении – это продолжение интереса к русской литературе, хотя и в несколько иной, непривычной форме ».
Но большинство литераторов и квалифицированных читателей не на шутку взволновано. «Литература как миф, как способ осмысления мира и способ овладения миром истлела, исчезает. Последние ее остатки исчезают на наших глазах », – твердит Дмитрий Галковский. Крушение литературоцентричной модели культуры оценивается либо как национальная катастрофа, либо как свидетельство помрачения умов, захваченных рыночным соблазном, либо как итог гражданской войны в литературе. «Поддерживающая демократию в России либерально-демократическая интеллигенция , – напоминает Наталья Иванова, – в этой борьбе оказалась победительницей, но ценой этой победы парадоксальной оказалась утрата литературой лидирующего положения в обществе. Произошла смена парадигмы ».
И тут классический вопрос: «Кто виноват?» переходит в вопрос столь же сакраментальный: «Что делать?» На который, признаемся, никто не дал пока адекватного ответа. Ни те, кто требует вернуть литературные передачи на телевидение, увеличить количество часов, отводимых на словесность в средней и высшей школе, создать общенациональное Общество читателей или взять родную литературу под государственный патронаж. Ни те, кто надеется, что художественное слово, пройдя путем зерна, вновь преображенным вернется к нам из рекламы, шоу-бизнеса, телевидения, Интернета и деловой литературы. Ни те, наконец, кто, подобно Борису Дубину, меланхолически констатируют: «Литература – это большая институция, у которой есть свое историческое время. Я допускаю мысль, что в том виде, в каком она формировалась в середине и до конца ХIХ века, очень может быть, что ее не то чтобы конец наступил, от нее отлетел творческий дух, это перестало быть новацией, творческой проблемой ».
Что делать? Верующим – молиться, атеистам – терпеть, утешая себя тем, что ничто не ново под луною. Ведь обратите внимание, как современно звучат слова Юрия Тынянова, сказанные им в начале 1920-х годов: «Нерадостно пишут писатели, как будто ворочают глыбы. Еще нерадостнее катит эти глыбы издатель в типографию, и совершенно равнодушно смотрит на них читатель. ‹…› Читатель сейчас отличается именно тем, что он не читает. Он злорадно подходит к каждой новой книге и спрашивает: а что же дальше? А когда ему дают это “дальше”, он утверждает, что это уже было. В результате этой читательской чехарды из игры выбыл издатель. Он издает Тарзана, сына Тарзана, жену Тарзана, вола его и осла его – и с помощью Эренбурга уже наполовину уверил читателя, что Тарзан это и есть, собственно, русская литература ».
См. МУЛЬТИЛИТЕРАТУРА; СУМЕРКИ ЛИТЕРАТУРЫ
ФИЛОСОФИЯ
Вестн. Ом. ун-та. 2011. № 1. С. 50-52.
УДК 101.091-1 Н.Г. Зенец
Омская государственная медицинская академия
СУБЪЕКТ ФИЛОСОФСТВОВАНИЯ В ПРОСТРАНСТВЕ ЛИТЕРАТУРНОГО ДИСКУРСА
Современные взаимоотношения философии и литературы характеризуется небывалым размыванием границ между этими феноменами. Угроза утраты самостоятельности философией, опасность превращения её в разновидность литературного дискурса актуализировали поиск нового основания, которое позволило бы сохранить автономность философской мысли, способной существовать в разных духовных пространствах, в частности и в литературном. Таким основанием, на наш взгляд, может быть «субъект философствования».
Ключевые слова: субъект философствования, мыслитель, философ, экспликация, литературное пространство, философия.
Изменения, происходящие ныне в духовном пространстве, характеризуются небывалым размыванием границ между философией, наукой, искусством, литературой. «Всё изменилось в ХХ в., и особенно в последние десятилетия этого века. В культурном сознании эпохи начинает складываться и всё более основательно определять собою общую атмосферу духовной жизни интердисциплинарность как способ мыслить, захвативший практически все виды гуманитарного знания» . Философия, выступавшая в качестве «маяка» (Л. Финк), своеобразного ориентира духовной жизни общества, утратила свою прежнюю роль. В новых условиях существования она столкнулась с проблемой самоопределения. Почему? Философию теперь трудно отличить от иных форм гуманитарного знания, таких как искусство, литература, психология, лингвистика, что в свою очередь породило представление о том, что современное пространство духовного творчества - это пространство без границ, здесь «каноны, правила традиционных жанровых форм трансформируются в одно “номадическое единство”» .
ХХ в. отмечен расцветом маргинальных жанров, существующих на стыке литературы и философии, искусства и философии, философии и поэтики, философии и лингвистики и т. п. Уже французскую философию от Монтеня до Делёза вполне можно отнести к компетенции литературы. Не случайно А. Камю, характеризуя сложившуюся ситуацию, иронично заметил: «хочешь быть философом - пиши роман». А Артур Данто назвал философию «жанром литературы» . Этот процесс явно свидетельствует о глубинной трансформации отношений между литературой и философией.
© Н.Г. Зенец, 2011
Субъект философствования в пространстве литературного дискурса
Сохраняет ли философия свою самостоятельность в качестве уникального феномена или её поглотил всеобъемлющий литературный дискурс? Философия и литература и прежде не имели строгую границу. Вспомним хотя бы Платона, Тита Лукреция Кара, немецких философов-романтиков, у которых «поэтическое слово» было и остается на такой высоте, что мы вправе говорить об их творчестве как о литературном. «Каждый большой философ является и большим писателем». Большой философ Бергсон не случайно получил Нобелевскую премию по литературе. А Ницше? Философ или мыслитель? И то и другое. И даже Гегель с его «философией истории обнаруживает блестящий писательский дар» . В то же время и многих представителей литературного творчества по праву можно считать философами. «Действительно, есть писатели и поэты, которые пронзительно чувствуют философскую сущность мира -Данте, Шекспир, Сервантес, Гете, Толстой, Достоевский, Кафка, Пруст, Джойс, Музиль, Борхес и многие другие, которые несомненно, обогатили не только литературу, но и философию» .
Литературное пространство сегодня -это необозримое многообразие форм литературного мыслетворчества, куда входят и филология, и лингвистика, и литературоведение с его многочисленными экспериментами мысли, которые подчас невозможно отличить от философских. «Если мы спросим себя,- пишет В.А. Подорога,- кто такие Э. Панофски или А. Ригль, кто такие Ж. Батай или М. Бланшо, или тот же У. Эко, чистые искусствоведы, семиотики или литературоведы? То о них можно сказать, что это вполне подготовленные исследователи, с высокой философской культурой» .
Возникшее на границе между четырьмя областями опыта (философии, литературы, искусства, науки) пространство востребовало и нового «фигуранта мысли». Этот новый фигурант мысли, который, будучи универсальным посредником, снимает всякое «специально философское», цеховое или административно-конъюнктурное определение философии и литературы, это фигура интеллектуала-мыслите-ля» . Но кто же такой «мыслитель»? «Мыслитель менее всего специалист, он -антиспециалист» .
Мыслитель олицетворяет собой весьма загадочный род деятельности, ведь по своей сути все люди являются мыслящими существами, но о немногих можно сказать, что они - мыслители. Мыслителя нельзя в полной мере отождествлять с философом. Философ, как правило, тот, кто владеет особой технологией мышления, системой знаний, философской методологией.
Но «мыслитель» - это и не мудрец. Мудрец пребывает в духовном покое, его мысль обрела точку опоры, он знает и владеет истиной и согласует с ней свою жизнь, тогда как мыслитель находится в постоянном поиске, он ищет и находит. Мыслитель, на наш взгляд, и есть не кто иной, как «субъект философствования».
Может показаться странным выбор такого понятия, как «субъект философствования» (подр. см. в ст.: ), так как сам термин «субъект» в последнее время активно изгонялся из философского дискурса. На его место стал претендовать «случайный индивид», не несущдй ответственности даже за себя самого. Мыслитель не может быть случайным индивидом, он тот, кто берет на себя ответственность за «жизнь» мысли, за то, чтобы случались акты философствования, под которыми понимается «реальная философия» (М. К. Ма-мардашвили). Последнее время акты философствования чаще случаются в литературе, в науке, в искусстве, нежели в философии. Причина этому - идеологическая несвобода и влияние массовой культуры. Сохранение философии в настоящее время как самостоятельного уникального феномена - это прежде всего сохранение самого «философствующего» в качестве «субъекта философствования». Субъектом философствования может оказаться и писатель, и поэт, и литератор, и художник, и ученый, если он «держит» собой «акт философствования».
Именно акт философствования подтверждает присутствие философии в мире, но заявляет он о себе через субъекта философствования, который способен выразить его словом. Акт философствования есть свидетельство случившегося «бытийного опыта сознания» (М. Мамар-дашвили). «Опыт, о котором идет речь,-это опыт встречи с «иномерным», не имеющим наличного бытия, когда переживается полнота бытия, где все возмож-
Н.Г. Зенец
ности помыслить о мире сразу открыты, хотя каждый мыслитель открывает эту «полноту» для себя по-своему... Этот опыт уравнивает всех философов, поэтов, мистиков ученых, как бы они ни были разделены друг с другом; если уж попали в это место (источник откровений и творений), то пребывают там все вместе и суть одно» . Поэтому философия может обнаруживаться в разных духовных пространствах, если этот опыт оборачивается актом философствования, т. е. облекается мыслью и словом. В такой момент, по слову Платона, происходит «разворот глаз души», мыслитель как бы обретает «философское видение», т. е. становится субъектом философствования. Этот «разворот глаз души» может случиться равно как с философом, так и с писателем и с литературоведом, поэтому акт философствования может обнаружиться в разных духовных пространствах. И в таком случае субъектами философствования могут быть все великие писатели и ученые. Ведь говорят же о философии Данте, Петрарки, Гёте, Толстого, Достоевского, Кафки, Пруста. Что позволяет этим писателям и поэтам быть ещё и субъектами философствования? Возможно, бытийный опыт, который они пережили и выразили в художественном слове, или то, что этот бытийный опыт был эксплицирован и выражен кем-то как акт философствования. На наш взгляд, и то и другое. Литературное творчество, каким бы великим оно не было, всегда остается литературным, пока не произойдет встреча с философской мыслью. Именно философская мысль способна оживить в литературном произведении бытийный опыт сознания и выразить его в акте философствования. С этого момента автор литературного произведения становится ещё и субъектом философствования. Так, философ М. Мамар-дашвили превратил в субъекта философствования М. Пруста, а М. Хайдеггер -
Гельдерлина. Философская мысль, подобно факелу, способна зажигать родственный огонь - огонь мысли в любом духовном пространстве, если там имел место бытийный опыт сознания. Появление такого фигуранта мысли, как «субъект философствования», с одной стороны, позволило объяснить феномен таких мыслителей, как С.С. Аверинцев, М.Л. Гаспаров, Ю.М. Лотман, Л.М. Андреев, П.А. Гринцер и др., творчество которых невозможно отнести в прямом смысле ни к литературе, ни к философии; как и «в свое время М.М. Бахтина не считали за своего ни филологи, для которых он был слишком «философ», ни философы, для которых он был слишком «литературовед» . А с другой стороны, введение такого понятия, как «субъект философствования», позволяет сохранить философию в качестве самостоятельного целостного феномена и в то же время - открытой различным духовным областям, которые она непрестанно осваивает.
ЛИТЕРАТУРА
Многообразие жанров философского дискурса / под общ. ред. В.И. Плотникова. Екатеринбург, 2009.
ДелёзЖ. Различие и повторение. СПб., 1998.
Danto A. Philosophy as (and) of Literature // Post-Analytic Philosophy. Ed. by I. Ranchman and C. West. N. Y., 1985.
Философия и литература: проблемы взаимных отношений: Материалы «Круглого стола» // Вопр. философии. 2009. № 9.
Колесников А. С. Философия и литература: современный дискурс // История философии, культура и мировоззрение. СПб., 2000. С.101.
Ахутин А. В. В стране Мамардашвили // Вопр. философии. 1996. № 7.
Зенец Н. Г. Человек как субъект философского мыслетворчества // Личность. Культура. Общество: Междунар. ж-л социал. и гуманитар. наук. 2009. Т. 11. Вып. 1. № 46-47. С. 258-263.
Следствием представлений о художественном произведении как о некоторым образом отграниченном пространстве, отображающем в своей конечности бесконечный объект - внешний по отношению к произведению мир, является внимание к проблеме художественного пространства.
Когда мы имеем дело с изобразительными (пространственными) искусствами, то это делается особенно очевидно: правила отображения многомерного и безграничного пространства действительности в двухмерном и ограниченном пространстве картины становятся ее специфическим языком. Например, законы перспективы как средства отображения трехмерного объекта в двухмерном его образе в живописи становятся одним из основных показателей этой моделирующей системы.
Однако не только изобразительные тексты мы можем рассматривать как некоторые отграниченные пространства. Особый характер зрительного восприятия мира, присущий человеку и имеющий результатом то, что денотатами словесных знаков для людей в большинстве случаев являются некоторые пространственные, зримые объекты, приводит к определенному восприятию словесных моделей. Иконический принцип, наглядность присущи и им в полной мере.
Можно сделать некоторый мысленный эксперимент: представим себе некоторое предельно обобщенное понятие, полностью отвлеченное от каких-либо конкретных признаков, некоторое все, и попробуем определить для себя его признаки. Нетрудно убедиться, что эти признаки для большинства людей будут иметь пространственный характер: «безграничность» (то есть отношение к чисто пространственной категории границы; к тому же в бытовом сознании большинства людей «безграничность» - лишь синоним очень большой величины, огромной протяженности), способность иметь части. Самое понятие универсальности, как показал ряд опытов, для большинства людей имеет отчетливо пространственный характер.
Таким образом, структура пространства текста становится моделью структуры пространства вселенной, а внутренняя синтагматика элементов внутри текста - языком пространственного моделирования.
Вопрос, однако, к этому не сводится. Пространство - «совокупность однородных объектов (явлений, состояний, функций, фигур, значений переменных и т. п.), между которыми имеются отношения, подобные обычным пространственным отношениям (непрерывность, расстояние и т. п.). При этом, рассматривая данную совокупность объектов как пространство, отвлекаются от всех свойств этих объектов, кроме тех, которые определяются этими принятыми во внимание пространственно-подобными отношениями».
Отсюда возможность пространственного моделирования понятий, которые сами по себе не имеют пространственной природы. Этим свойством пространственного моделирования широко пользуются физики и математики. Понятия «цветовое пространство», «фазовое пространство» лежат в основе широко используемых в оптике или электротехнике пространственных моделей. Особенно существенно это свойство пространственных моделей для искусства.
Уже на уровне сверхтекстового, чисто идеологического моделирования язык пространственных отношений оказывается одним из основных средств осмысления действительности. Понятия «высокий - низкий», «правый - левый», «близкий - далекий», «открытый - закрытый», «отграниченный - неотграниченный», «дискретный - непрерывный» оказываются материалом для построения культурных моделей с совсем не пространственным содержанием и получают значение: «ценный - неценный», «хороший - плохой», «свой - чужой», «доступный - недоступный», «смертный - бессмертный» и т. п.
Самые общие социальные, религиозные, политические, нравственные модели мира, при помощи которых человек на разных этапах своей духовной истории осмысляет окружающую его жизнь, оказываются неизменно наделенными пространственными характеристиками то в виде противопоставления «небо - земля» или «земля - подземное царство» (вертикальная трехчленная структура, организованная по оси верх - низ), то в форме некоторой социально-политической иерархии с отмеченным противопоставлением «верхов» «низам», то в виде нравственной отмеченности противопоставления «правое - левое» (выражения: «наше дело правое», «пустить заказ налево»).
Представления о «возвышенных» и «унижающих» мыслях, занятиях, профессиях, отождествление «близкого» с понятным, своим, родственным, а «далекого» с непонятным и чужим - все это складывается в некоторые модели мира, наделенные отчетливо пространственными признаками.
Исторические и национально-языковые модели пространства становятся организующей основой для построения «картины мира» - целостной идеологической модели, присущей данному типу культуры. На фоне этих построений становятся значимыми и частные, создаваемые тем или иным текстом или группой текстов пространственные модели. Так, в лирике Тютчева «верх» противостоит «низу», помимо общей для очень широкого круга культур интерпретации в системе «добро - зло», «небо - земля», еще и как «тьма», «ночь» - «свету», «дню», «тишина» - «шуму», «одноцветность» - «пестроте», «величие» - «суете», «покой» - «усталости».
Создается отчетливая модель мирового устройства, ориентированная по вертикали. В ряде случаев «верх» отождествляется с «простором», а «низ» с «теснотой» или же «низ» с «материальностью», а «верх» - с «духовностью». Мир «низа» - дневной:
О, как пронзительны и дики,
Как ненавистны для меня
Сей шум, движенье, говор, клики
Младого, пламенного дня!
В стихотворении «Душа хотела б быть звездой» - интересная вариация этой схемы:
Душа хотела б быть звездой,
Но не тогда, как с неба полуночи
Сии светила, как живые очи,
Глядят на сонный мир земной, -
Но днем, когда, сокрытые как дымом
Палящих солнечных лучей,
Они, как божества, горят светлей
В эфире чистом и незримом.
Противопоставление «верх» (небо) и «низ» (земля) получает здесь прежде всего частную интерпретацию. В первой строфе единственный эпитет, относящийся к семантической группе неба, - «живые», а земли - «сонный». Если вспомнить, что «сон» для Тютчева - устойчивый синоним смерти, например:
Есть близнецы - для земнородных
Два божества, - то Смерть и Сон,
Как брат с сестрою дивно сходных... -
то станет очевидно: здесь «верх» интерпретируется как сфера жизни, а «низ» - смерти. Подобное истолкование устойчиво для Тютчева: крылья, подымающие вверх, у него неизменно - «живые» («Ах, если бы живые крылья души, парящей над толпой...» Или: «Природа-мать ему дала два мощных, два живых крыла»). Для земли же обычно определение «прах»:
О, этот Юг, о, эта Ницца!..
О, как их блеск меня тревожит!
Жизнь, как подстреленная птица,
Подняться хочет - и не может...
Нет ни полета, ни размаху -
Висят поломанные крылья,
И вся она, прижавшись к праху,
Дрожит от боли и бессилья...
Здесь «блеск» - яркость, пестрота южного дня - оказывается в одном синонимическом ряду с «прахом» и невозможностью полета.
Однако «ночь» первой строфы, распространяясь и на небо и на землю, делает возможным определенный контакт между этими противоположными полюсами тютчевской структуры мира. Не случайно в первой строфе они связаны глаголом контакта, хотя и одностороннего («глядят на»). Во второй строфе «день» на земле не распространяется на все мироздание. Он охватывает лишь «низ» мира. Палящие солнечные лучи «как дымом» окутывают лишь землю. Вверху же, недоступная для взоров («незримая» - и этим возможность контактов оборвана), царит ночь. Таким образом, «ночь» - вечное состояние «верха» - лишь периодически свойственное «низу», земле. И это лишь в те минуты, когда «низ» лишается многих присущих ему черт: пестроты, шума, подвижности.
Мы не ставим перед собой цели исчерпать тютчевскую картину пространственного строения мира - нам интересно сейчас другое: подчеркнуть, что пространственная модель мира становится в этих текстах организующим элементом, вокруг которого строятся и непространственные его характеристики.
Приведем пример из лирики Заболоцкого, в творчестве которого пространственные структуры также играют очень большую роль. Прежде всего, следует отметить высокую моделирующую роль оппозиции «верх - низ» в поэзии Заболоцкого. При этом «верх» всегда оказывается синонимом понятия «даль», а «низ» - «близость». Поэтому всякое передвижение есть, в конечном счете, передвижение вверх или вниз. Движение, по сути дела, организуется только одной - вертикальной - осью. Так, в стихотворении «Сон» автор во сне оказывается «в местности безгласной». Окружающий его мир прежде всего получает характеристику далекого («Я уплывал, я странствовал вдали») и отдаленного (очень странного).
Мосты в необозримой вышине
Висели над ущельями провалов...
Земля расположена далеко внизу:
Мы с мальчиком на озеро пошли,
Он удочку куда-то вниз закинул
И нечто, долетевшее с земли,
Не торопясь, рукою отодвинул.
Эта вертикальная ось одновременно организует и этическое пространство: зло у Заболоцкого неизменно расположено внизу. Так, в «Журавлях» моральная окраска оси «верх - низ» предельно обнажена: зло приходит снизу, спасение от него - порыв вверх:
Черное зияющее дуло
Из кустов навстречу поднялось
………………….
И, рыданью горестному вторя,
Журавли рванулись в вышину.
Только там, где движутся светила,
В искупленье собственного зла
Им природа снова возвратила
То, что смерть с собою унесла:
Гордый дух, высокое стремленье,
Волю непреклонную к борьбе...
Совмещение высокого и далекого и противоположная характеристика «низа» делают «верх» направлением расширяющегося пространства: чем выше, тем безграничнее простор, чем ниже, тем теснее. Конечная точка низа совмещает в себе все исчезнувшее пространство. Из этого вытекает, что движение возможно лишь наверху и оппозиция «верх - низ» становится структурным инвариантом не только антитезы «добро - зло», но и «движение - неподвижность». Смерть - прекращение движения - есть движение вниз:
А вожак в рубашке из металла
Погружался медленно на дно...
В «Снежном человеке» привычная для искусства XX в. пространственная схема: атомная бомба как смерть сверху - разрушена. Герой - «снежный человек» - вынесен вверх, и атомная смерть приходит снизу, а погибая, герой упадает вниз:
Говорят, что в Гималаях где-то,
Выше храмов и монастырей,
Он живет, неведомый для света
Первобытный выкормыш зверей.
…………………
В горные упрятан катакомбы,
Он и знать не знает, что под ним
Громоздятся атомные бомбы,
Верные хозяевам своим.
Никогда их тайны не откроет
Гималайский этот троглодит,
Даже если, словно астероид,
Весь пылая, в бездну полетит.
Однако понятие движения у Заболоцкого часто усложняется в связи с усложнением понятия «низ». Дело в том, что для ряда стихотворений Заболоцкого «низ» как антитеза верху - пространству - движению не конечная точка опускания. Связанный со смертью уход в глубину, расположенную ниже обычного горизонта стихотворений Заболоцкого, неожиданно вызывает признаки, напоминающие некоторые свойства «верха». Верху присуще отсутствие застывших форм - движение здесь истолковывается как метаморфоза, превращение, причем возможности сочетаний здесь не предусмотрены заранее:
Я хорошо запомнил внешний вид
Всех этих тел, плывущих из пространства:
Сплетенье форм, и выпуклости плит,
И дикость первобытного убранства.
Там тонкости не видно и следа,
Искусство форм там явно не в почете...
Это переразложение земных форм есть вместе с тем приобщение формам более общей космической жизни. Но то же самое относится и к подземному, посмертному пути человеческого тела. В обращении к умершим друзьям поэт говорит:
Вы в той стране, где нет готовых форм,
Где все разъято, смешано, разбито,
Где вместо неба - лишь могильный холм...
Таким образом, в качестве неподвижного противопоставления «верху» выступает земная поверхность - бытовое пространство обыденной жизни. Выше и ниже его возможно движение. Но движение это понимается специфически. Механическое перемещение неизменных тел в пространстве приравнивается неподвижности, подвижность - это превращение.
В связи с этим в творчестве Заболоцкого выдвигается новое существенное противопоставление: неподвижность приравнивается не только механическому передвижению, но и всякому однозначно предопределенному, полностью детерминированному движению. Такое движение воспринимается как рабство, и ему противопоставляется свобода - возможность непредсказуемости (в терминах современной науки эту оппозицию текста можно было бы представить как антиномию: избыточность - информация).
Отсутствие свободы, выбора - черта материального мира. Ему противостоит свободный мир мысли. Такая интерпретация этого противопоставления, характерная для всего раннего и значительной части стихотворений позднего Заболоцкого, определила причисление им природы к низшему, неподвижному и рабскому миру. Этот мир исполнен тоски и несвободы и противостоит миру мысли, культуры, техники и творчества, дающим выбор и свободу установления законов там, где природа диктует лишь рабское исполнение:
И уйдет мудрец, задумчив,
И живет, как нелюдим,
И природа, вмиг наскучив,
Как тюрьма, стоит над ним.
У животных нет названья.
Кто им зваться повелел?
Равномерное страданье -
Их невидимый удел.
………………
Вся природа улыбнулась,
Как высокая тюрьма.
Те же образы природы сохраняются и в творчестве позднего Заболоцкого. Культура, сознание - все виды одухотворенности сопричастны «верху», а звериное, нетворческое начало составляет «низ» мироздания. Интересно в этом отношении пространственное решение стихотворения «Шакалы». Стихотворение навеяно реальным пейзажем южного берега Крыма и на уровне описываемой поэтом действительности дает заданное пространственное размещение - санаторий находится внизу, у моря, а шакалы воют наверху, в горах. Однако пространственная модель художника вступает в противоречие с этой картиной и вносит в нее коррективы.
Санаторий принадлежит миру культуры - он подобен электроходу в другом стихотворении крымского цикла, о котором сказано:
Гигантский лебедь, белый гений,
На рейде встал электроход.
Он встал над бездной вертикальной
В тройном созвучии октав,
Обрывки бури музыкальной
Из окон щедро раскидав.
Он весь дрожал от этой бури,
Он с морем был в одном ключе,
Но тяготел к архитектуре,
Подняв антенну на плече.
Он в море был явленьем смысла...
Поэтому стоящий у моря санаторий назван «высоким» (ср. электроход «над бездной вертикальной»), а шакалы, хотя и находятся в горах, помещены в низ верха:
Лишь там, наверху, по оврагам...
Не гаснут всю ночь огоньки.
Но, поместив шакалов в «овраги гор» (пространственный оксюморон!), Заболоцкий снабжает их «двойниками» - квинтэссенцией низменной животной сущности, - помещенными еще глубже:
И звери по краю потока
Трусливо бегут в тростники,
Где в каменных норах глубоко
Беснуются их двойники.
Мышление неизменно выступает в лирике Заболоцкого как вертикальное восхождение освобожденной природы:
И я, живой, скитался над полями,
Входил без страха в лес,
И мысли мертвецов прозрачными столбами
Вокруг меня вставали до небес.
И голос Пушкина был над листвою слышен,
И птицы Хлебникова пели у воды.
………………
И все существованья, все народы
Нетленное хранили бытие,
И сам я был не детище природы,
Но мысль ее! Но зыбкий ум ее!
Всем формам неподвижности: материальной (в природе и быту человека), умственной (в его сознании) - противостоит творчество. Творчество освобождает мир от рабства предопределенностей. Оно - источник свободы. В этой связи возникает и особое понятие гармонии. Гармония - это не идеальные соответствия уже готовых форм, а создание новых, лучших соответствий. Поэтому гармония всегда создание человеческого гения. В этом смысле стихотворение «Я не ищу гармонии в природе» - поэтическая декларация Заболоцкого. Не случайно он ее поставил на первое место (нарушая хронологический порядок) в сборнике стихов 1932 - 1958 гг. Творчество человека - продолжение творческих сил природы.
В природе также присутствует большая и меньшая одухотворенность;
озеро гениальнее, чем окружающая его «трущоба», оно «горит устремленное к небу ночному», «чаша прозрачной воды сияла и мыслила мыслью отдельной» («Лесное озеро»).
Таким образом, основная ось «верх - низ» реализуется в текстах через ряд вариантных противопоставлений.
Такова общая система Заболоцкого. Однако художественный текст - не копия системы: он складывается из значимых выполнений и значимых невыполнений ее требований. Именно потому, что охарактеризованная система пространственных отношений организует подавляющее большинство текстов Заболоцкого, отклонения от нее делаются особенно значимыми.
В стихотворении «Противостояние Марса» - уникальном в творчестве Заболоцкого, поскольку мир мысли, логики и науки выступает здесь как бездушный и бесчеловечный, - мы обнаруживаем совершенно иную структуру художественного пространства. Противопоставление «мысль, сознание - быт» сохраняется (в равной мере как и отождествление первого с «верхом», а второго с «низом»). Однако совершенно неожиданно для Заболоцкого «дух, полный разума и воли» получает второе определение: «лишенный сердца и души». Сознательность выступает как синоним зла и зверского, античеловеческого начала в культуре:
И тень сознательности злобной
Кривила смутные черты,
Как будто дух звероподобный
Смотрел на землю с высоты.
Мир бытовой, домашний, представленный в облике привычных вещей и предметов, оказывается близким, человечным и добрым. Уничтожение вещей - чуть ли не единственный раз у Заболоцкого - оказывается злом. Вторжение войны и других форм социального зла представляется не как наступление стихии, природы на разум, а как бесчеловечное вторжение абстрактного в частную, вещественную, бытовую жизнь человека. Не случайна, как кажется, здесь пастернаковская интонация:
Война с ружьем наперевес
В селеньях жгла дома и вещи
И угоняла семьи в лес.
Персонифицированная абстракция войны сталкивается с миром вещественным и реальным. При этом мир зла - это мир без частностей. Он преобразован на основании науки, и из него удалены все «мелочи». Ему противостоит «непреобразованный», запутанный, нелогичный мир земной реальности. Сближаясь с традиционно-демократическими представлениями, Заболоцкий, вопреки господствующим в его поэзии семантическим структурам, употребляет понятие «естественный» с положительным знаком:
Кровавый Марс из бездны синей
Смотрел внимательно на нас.
………………
Как будто дух звероподобный
Смотрел на землю с высоты.
Тот дух, что выстроил каналы
Для неизвестных нам судов
И стекловидные вокзалы
Средь марсианских городов.
Дух, полный разума и воли,
Лишенный сердца и души,
Кто от чужой не страждет боли,
Кому все средства хороши.
Но знаю я, что есть на свете
Планета малая одна,
Где из столетия в столетье
Живут иные племена.
И там есть муки и печали,
И там есть пища для страстей,
Но люди там не утеряли
Души естественной своей.
………………
И эта малая планета -
Земля злосчастная моя.
Примечательно, что в этом столь неожиданном для Заболоцкого тексте резко меняется система пространственных отношений. «Высокое», «далекое» и «обширное» противостоит «низкому», «близкому» и «малому» как зло добру. «Небеса», «бездна синяя» входят в эту модель мира с отрицательным значением. Глаголы, значение которых направлено сверху вниз, несут негативную семантику. Следовало бы отметить, что, в отличие от других текстов Заболоцкого, «верхний» мир не представлен текучим и подвижным: он застыл, зафиксировался в своей логической косности и неподвижности. Не случайно именно ему приписана не только стройность, непротиворечивость, законченность, но и жесткая цветовая контрастность:
Кровавый Марс из бездны синей.
Земной мир - мир переходов и цветовых полутонов:
Так золотые волны света
Плывут сквозь сумрак бытия.
Как видим, пространственная структура того или иного текста, реализуя пространственные модели более общего типа (творчества определенного писателя, того или иного литературного направления, той или иной национальной или региональной культуры), представляет всегда не только вариант общей системы, но и определенным образом конфликтует с ней, деавтоматизируя ее язык.
Наряду с понятием «верх - низ» существенным признаком, организующим пространственную структуру текста, является оппозиция «замкнутый - разомкнутый». Замкнутое пространство, интерпретируясь в текстах в виде различных бытовых пространственных образов: дома, города, родины - и наделяясь определенными признаками: «родной», «теплый», «безопасный», противостоит разомкнутому «внешнему» пространству и его признакам: «чужое», «враждебное», «холодное». Возможны и противоположные интерпретации.
В этом случае важнейшим топологическим признаком пространства сделается граница. Граница делит все пространство текста на два взаимно не пересекающихся подпространства. Основное ее свойство - непроницаемость. То, каким образом делится текст границей, составляет одну из существенных его характеристик. Это может быть деление на своих и чужих, живых и мертвых, бедных и богатых.
Важно другое: граница, делящая пространство на две части, должна быть непроницаемой, а внутренняя структура каждого из подпространств - различной. Так, например, пространство волшебной сказки отчетливо членится на «дом» и «лес». Граница между ними отчетлива - опушка леса, иногда - река (битва со змеем почти всегда происходит на «мосту»). Герои леса не могут проникнуть в дом - они закреплены за определенным пространством. Только в лесу могут происходить страшные и чудесные события.
Очень отчетливо закрепление определенных типов пространства за определенными героями у Гоголя. Мир старосветских помещиков отгорожен от внешнего многочисленными концентрическими защитными кругами («круг» в «Вие»), долженствующими, укрепить непроницаемость внутреннего пространства. Не случайно многократное повторение слов с семантикой круга в описании поместья Товстогубов: «Я иногда люблю сойти на минуту в сферу этой необыкновенно уединенной жизни, где ни одно желание не перелетает за частокол, окружающий небольшой дворик, за плетень сада, наполненного яблонями и сливами, за деревенские избы, его окружающие...». Лай собак, скрип дверей, противопоставление тепла дома внешнему холоду, окружающая дом галерея, защищающая его от дождя, - все это создает полосу неприступности для враждебных внешних сил. Напротив того, Тарас Бульба - герой разомкнутого пространства.
Повествование начинается с рассказа об уходе из дома, сопровождаемом битьем горшков и домашней утвари. Нежелание спать в доме лишь начинает длинный ряд описаний, свидетельствующих о принадлежности этих персонажей к миру незамкнутого пространства: «...лишившись дома и кровли, стал здесь отважен человек...». Сечь не имеет не только стен, ворот, оград - она постоянно меняет место. «Нигде не видно было забора <...>. Небольшой вал и засека, не хранимые решительно никем, показывали страшную беспечность».
Не случайно стены появляются лишь как враждебная запорожцам сила. В мире сказки или «Старосветских помещиков» зло, гибель, опасность приходят из внешнего, открытого мира. От него обороняются оградами и запорами. В «Тарасе Бульбе» сам герой принадлежит внешнему миру - опасность приходит из мира замкнутого, внутреннего, отграниченного. Это дом, в котором можно «обабиться», уют. Самая безопасность внутреннего мира таит для героя этого типа угрозу: она может его соблазнить, совлечь с пути, прикрепить к месту, что равносильно измене. Стены и ограды выглядят не как защита, а как угроза (запорожцы «не любили иметь дело с крепостями»).
Случай, когда пространство текста делится некоторой границей на две части и каждый персонаж принадлежит одной из них, - основной и простейший. Однако возможны и более сложные случаи: разные герои не только принадлежат разным пространствам, но и связаны с различными, порой несовместимыми типами членения пространства. Один и тот же мир текста оказывается различным образом расчленен применительно к разным героям.
Возникает как бы полифония пространства, игра разными видами их членения. Так, в «Полтаве» есть два непересекающихся и несовместимых мира: мир романтической поэмы с сильными страстями, соперничеством отца и любовника за сердце Марии и мир истории и исторических событий. Одни герои (как Мария) принадлежат только первому миру, другие (как Петр) только второму. Мазепа - единственный персонаж, входящий в оба.
В «Войне и мире» столкновение различных персонажей - одновременно и столкновение присущих им представлений о структуре мира.
С проблемой структуры художественного пространства тесно связаны две другие: проблемы сюжета и точки зрения.
Лотман Ю.М. Структура художественного текста — М., 1970 г.